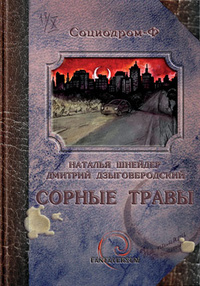В этом году жюри практически единодушно присудило премию роману Натальи Шнейдер и Дмитрия Дзыговбродского «Сорные травы», вышедшую в 2012 году в издательстве «Фантаверсум». Также роман получил премию «Странник» в номинации «Необычная идея» и премию Международная ассамблея фантастики «Портал» в номинации «Открытие себя» (премия имени И.Ф. Савченко).
Предлагаем вашему вниманию интервью с лауреатами:
Наталья Шнейдер — врач по образованию и по профессии. «Сорные травы» — это третий ее роман, второй из опубликованных в издательстве «Фантаверсум». (Первый — «Двум смертям не бывать» написан в стиле фэнтези. Живет в Омске. Замужем. Воспитывает сына и кота.
Были ли у Вас в детстве любимые литературные герои или героини? А любимые авторы?
Любимые герои, конечно, были, правда, менялись они довольно быстро. Мушкетеры и гардемарины, Люк Скайуокер, Низа Крит из «туманности Андромеды» (несмотря на то, что сейчас, хоть стреляйте, не вспомню, чем же она меня «зацепила») Илль Элиа из «Леопарда с вершины Килиманджаро» Ларионовой, Кларк из «Марсианки Подкейн», князь Мышкин – в общем, наверное, стандартный набор рано начавшего читать и любознательного ребенка.
Когда вы поняли что вы писатель? Как это произошло? Сколько времени Вам понадобилось на то, чтобы поверить в это? Мешало ли Вам что-то?
Если совсем честно – до сих пор до конца не поверила. Все время кажется, что писатель – это Чехов там, Достоевский, Лем, на худой конец, что-то такое… эпохальное. Мыслители, «инженеры человеческих душ», и тут вдруг я. Писатель. Гм.
Пока мне проще считать себя «публикующимся автором».
Вы учились ремеслу писателя? Как и у кого?
Да, и не перестаю учиться. Сейчас выпущено множество книг на тему «как стать писателем» — читаю, обдумываю, какие-то приемы использую. «знать как надо делать» и «уметь делать » — две разных вещи, тем не менее, со временем получается перевести одно в другое. На первых порах в сети многое дали литературные конкурсы, которые сопровождались обсуждением работ – главное, не подсесть на соревновательность. К сожалению, у меня нет возможности регулярно ездить на мастер-классы, которые проводят современные писатели – но те несколько, ан которых я была, оказались очень ценны в плане нового опыта и знаний.
Сколько времени (приблизительно) прошло с вашего первого литературного опыта до тех пор, как Вы решились показать свою работу посторонним? Предложить ее в издательство?
Признаться, я не знаю, что считать своим первым литературным опытом. Сказки на ночь я себе рассказывала лет с шести, по крайней мере первое сознательное воспоминание об истории, которую я сама придумала у меня где-то с этого возраста. Начала записывать лет с двенадцати, показала подруге лет в шестнадцать. На широкую публику впервые вынесла в 2004 году, когда на Литфоруме проходил конкурс фанфиков по мирам Ника Перумова – и так получилось, что написанный тогда фанфик и стал моей первой публикацией. После этого рассылать свои работы по журналам и издательствам было не так страшно.
Есть ли у Вас псевдоним? С чем связан его выбор?
Да, я публикуюсь под псевдонимом – моей девичьей фамилией. Этакое символическое отделение «творческой личности» от «земной женщины» — жены и матери. Обе эти роли – важная часть моей жизни, но они разные, потому и зовут их по-разному.
Как Вы совмещаете работу/дом. хозяйство/материнство и писательство? Сколько усилий приходится предпринимать? Чем приходится жертвовать?
Агата Кристи думала об убийстве когда мыла посуду. У меня получается примерно так же. Самое трудное – выбрать время сеть и записать то, что уже оформилось в голове.
Когда к Вам чаще всего приходят идеи?
Какого-то определенного времени или условий нет. В время чтения, просмотра передач, по дороге….
Какие из Ваших хобби помогают Вам в творчестве? Какие мешают?
Если считать чтение «хобби» — то в первую очередь чтение. Под вязание хорошо думается, или в парке на роликах или коньках. А вот занятия, требующие полной вовлеченности – вышивка бисером, занятия в зале, скорее «мешают» — не смысле, от отбирают энергию для творчества, но отнимают у него время.
Как Вы считаете: есть ли у ваших героинь что-то общее?
Я бы сказала, что это сильные женщины. Не в том смысле, что «слона на скаку остановит и хобот ему оторвет» — но обладающие неким внутренним стержнем, способные принимать самостоятельные решения и выполнять задуманное.
Приходилось ли писать от лица мужчин? На что вы опирались? Какие были ощущения?
Писала от лица мужчины. Не могу сказать, что ощущения были какими-то особенными. Человек – он и есть человек, что мужчина, что женщина.
Как относятся Ваши близкие и друзья к вашему творчеству?
Ребенок еще не дорос, муж терпеть не может фантастику, так что это не моя целевая аудитория, родители и друзья спрашивают, когда будет что-нибудь новенькое.
Что Вы думаете о старости и смерти?
С одной стороны, для меня возраст синоним статуса, чем старше – тем больше возможностей. Опять же, мне кажется, что это время, когда дети уже взрослые и не зависят от родителей, и огромное количество сил и времени высвобождается. С другой – после определенного возраста неизбежно снижение качества жизни, а возможная зависимость от других людей из-за болезней, связанных с возрастом меня пугает, надеюсь, мне удастся до конца самостоятельно себя обслуживать. Смерть же – логическое завершение пути, наверное. Хотя не скажу, что отказалась бы от вечной жизни.
Какие ощущения от работы в соавторстве?
С одной стороны — проще. Всегда есть "об кого" подумать — обсудить какие-то сложные моменты, тут же получить обратную связь, покрутить какую-то идею со всез сторон, в том числе с тех, которые самостоятельно не видишь. С другой — приходится искать компромиссы между идеями своими и соавтора, приходится довольно подробно расписывать все детали, чтобы не получилось то, что описал Джек Лондон в предисловии к "сердцам трех" — "получаю по почте сценарий четырнадцатого эпизода) и вижу, что мой герой женат совсем не на той женщине!" — когда я пишу одна, такой необходимости обычно нет, приходится ловить себя за руку, когда хочется отформатировать текст соавтора "под себя".
Дмитрий Дзыговбродский — по образованию и по профессии экономист. Опубликовал более 30 рассказов в фантастических журналах и сборниках, таких "Меридиан", "Эвиал", "Реальность Фантастики", "Магия ПК", "Шалтай-Болтай", "Я", "Полдень", "Очевидное и невероятное", "Юный техник". «Сорные травы» — первое произведение в крупной форме. Живет в Днепропетровске.
Почему вы взялись за тему апокалипсиса?
Потому что это был в некотором роде вызов – написать что-то свежее, живее и приятней пахнущее, чем многочисленные зомби эпопеи, которые сейчас множатся как Staphylococcus aureus в чашке Петри. Но при этом мы прекрасно понимали, что тема изучена и разработана вдоль и поперёк – от «Почтальона» Брина и «Мальвиля» Мерля до «На последнем берегу» Шюта. Так что задача была и трудна, и интересна. То, что нужно.
Были ли у Вас в детстве любимые литературные герои или героини? А любимые авторы?
Первым автором-фантастом, с которым я познакомился, был Хайнлайн. Когда мы жили в Подмосковье на военном объекте, папа решил, что я слишком уж много бегаю по лесам, играя в «войнушки» и терроризируя лесное зверьё – и коварно подсунул мне книгу «Пасынки Вселенной». Так я в пять лет влюбился в фантастику. Затем в течение года познакомился с Бредбери, Саймаком, Желязны, Ефремовым, Стругацкими. С тех пор в любимых авторах прописались Бредбери, Хайнлайн и Стругацкие. Уже через много лет к ним присоединились Олди, Лазарчук и Дивов, Симмонс, Герберт и Герролд. Из нефантастов мои любимые писатели Кэрролл, Лондон (хотя его «Межзвёздный скиталец» и «Алая чума» — отличные фантастические произведения), Сенкевич, Булгаков.
С любимыми героями сложнее. Дарт Вейдер – зе бест. :) А из чисто литературных – Атос, Рэд Шухарт, Корвин, Андре-Луи Моро.
Когда вы поняли что вы писатель? Как это произошло? Сколько времени Вам понадобилось на то, чтобы поверить в это? Мешало ли Вам что-то?
Я всё ещё в процессе понимания и осознания. :) Откровенно говоря, я каждый раз, когда работаю с текстом, доказываю самому себе, что я писатель. Этот процесс бесконечен, как мне кажется. Неверие людей, конечно же, мешало когда-то. Особенно неверие приятелей и друзей. Родные меня всегда поддерживали. Образ писателя мифологизирован – и мало кто может представить и принять, что знакомый вдруг внезапно может оказаться «инженером человеческих душ» и «создателем миров». Потому чаще знакомые стараются подрезать крылья в самом начале творческого пути. Ну зато хорошо тренировка – писателю жизненно необходима железобетонная уверенность.
Расскажу об одном интересном эпизоде в моей жизни. Когда-то, когда я ещё учился на пятом курсе Днепропетровского Государственного Университета, я как раз вёл сам с собой философские диспуты – писатель я или нет, «тварь ли я дрожащая или право имею». В общем, юношеская рефлексия – борьба максимализма и скромности. На пике размышлений и споров мне приснился занимательный сон. Как будто я сижу на берегу, рядом вынесены на песок лодки, старая, изломанная штормами пристань, море неспешно плещется в десяти шагах. Прямо-таки «хэмовский» пейзаж. А рядом сидит Рэй Бредбери. И мы с ним беседуем о том, что такое быть писателем и как стать писателем. Я уже подзабыл, о чём точно мы с ним говорили – но некоторые его слова остались в моей памяти. Не нужно сомневаться и решать – писатель ты или нет. Просто пиши. Смелость переводить мысли в символы – необходимый атрибут для литератора. Если есть что сказать, пиши. А сомнения оставь на потом, когда поставишь точку в конце книги или рассказа. Вот так мне подсознание дало ответ. Или же сам Рэй Бредбери. После этого сна я уже меньше сомневался.
Вы учились ремеслу писателя? Как и у кого?
Нет. Если говорить о семинарах, лекциях, уроках. Но учился по книгам. У Хэма изучал лаконичность и мужественность образов. У Булгакова построению живых диалогов. У Сенкевича смотрел, как строить образ древнего мира. У Олдей, как играть словами и смыслами. У Бредбери чудесной образности и умению сделать так, чтобы мир не только можно было представить, но и даже понюхать – для меня Марс до сих пор пахнет корицей. Долго перечислять – учителей очень много.
Сколько времени (приблизительно) прошло с вашего первого литературного опыта до тех пор, как Вы решились показать свою работу посторонним? Предложить ее в издательство?
Наверное, несколько месяцев. Я в году эдак в 2004 написал короткий рассказ – идея мне пришла в голову на работе. И через несколько месяцев в сети я вышел на литературные форумы, узнал, как и куда отправлять рассказы – до этого я вообще не был в курсе литературной жизни в сети. Я выслал тот самый рассказ Григорию Панченко в «Меридиан». И он его принял на публикацию. Так и случилась первая публикация. Помню, что оповещение о письме пришло мне SMSкой на телефон в 10 вечера. Я как раз прогуливался с другом по набережной. Только прочитав первые слова в SMS, я понял, что рассказ приняли в журнал. Ощущения были непередаваемые.
Ощущения от работы в соавторстве?
Скажу откровенно, мне очень повезло с соавтором. У меня уже был опыт соавторства до «Сорных трав» — и мне есть с чем сравнивать. Ната Шнейдер – уникальная, чуткая, талантливая девушка. В ней есть и женская мудрость, и твёрдость характера, и живой ум. Она идеально дополняет меня – вовремя удерживает мою фантазию в нужных границах, подсказывает, указывает на ошибки и поддерживает, когда я начинаю сомневаться. Вера в меня другого человека даёт огромные силы. И ещё добавляет сил боязнь подвести близкого человека, которым становится для тебя соавтор. Взаимная поддержка очень важна. И не менее важно, когда у соавторов совпадают жизненные ценности и внутренняя мораль. Тогда получается особая синергия, когда понимаешь друг друга с полуслова, уважаешь другуа друга и ценишь, подхватываешь идеи соавтора на лету и стараешься сделать текст лучше не за страх, за совесть, потому что дело общее.
Какие из Ваших хобби помогают Вам в творчестве? Какие мешают?
Меня всегда интересовала медицина, хотя у меня и экономическое образование. Кроме того, я интересуюсь фармакологией, огнестрельным и холодным оружием. Думаю, что эти хобби мне помогли при написании «Сорных трав». Ну, и самое полезное хобби – люблю мечтать, проговаривать про себя сюжеты и диалоги. Помнится в детстве, даже играя в солдатики, я представлял политические и экономические причины конфликта (насколько хватало детского воображения и знаний), создавал в воображении ключевых персонажей и в ходе боёв у меня строился довольно интересный сюжет. Так что я сам себе создавал увлекательные истории ещё в детстве. А так как я начал читать фантастику ещё в 5 лет, то все мои игры в детстве «происходили» на других планетах. И когда я представлял и обыгрывал противостояние на «одной планете» я чётко знал, что происходило в это время на других. И на следующий день я не начинал играть сначала, а продолжал сюжет с той точки, на которой остановился. Такая вот интерактивная детская история.
Вы одинаково свободно описываете женщин и мужчин? Или есть специфические трудности, связанные с гендером?
Я предпочитаю описывать героев мужчин. Я хочу быть максимально достоверным. Персонажей женщин я могу конструировать – но конструкт в любом случае будет менее живым и ярким, чем интуитивно созданный персонаж. Это мой соавтор одинаково легко описывает персонажей и мужского, и женского пола.
Вопрос к обоим соавторам: ваши творческие планы?
Дописать историю «Сорных трав». Мы с соавтором ещё удивим читателей. Кроме того, у нас есть и другие задумки для соавторства. Можем пообещать, что скучно не будет.
Вопросы задавала секретарь премии «Бегущая по волнам» Елена Первушина.
 облако тэгов
облако тэгов